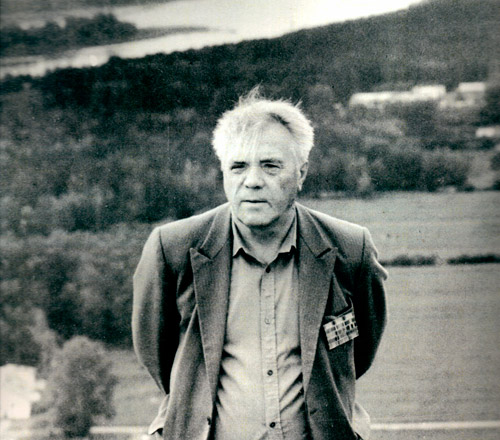В газете «Коммунист Заполярья» на полосе, названной «Литературная страница» 11 ноября 1958 года был напечатан рассказ В.П.Астафьева «Домашнее животное». В предисловии сказано: «Как уже сообщалось в нашей газете, писатель Виктор Петрович Астафьев отправил в подарок пионерам Игарки несколько своих книг. Редакция газеты обратилась к нему с просьбой прислать для газеты небольшой рассказ на «Литературную страницу».

Недавно редакция получила ответное письмо от Виктора Петровича. В нем он рассказывает: «Сейчас я работаю над произведением более крупного плана. Закончил первую часть повести «Перевал». Действие второй части должно происходить в Игарке, и я летом собираюсь поехать в Заполярье. Надеюсь встретиться. А пока шлю читателями родного города небольшой рассказ, правда, он не совсем подходит для газеты, но, к сожалению, другого подобрать не смог».
Вот текст этого рассказа.

Домашнее животное
_ Стоит? – спросил командир отделения, пришедший проверить, как несу я дежурство возле стереотрубы.
— Стоит, — глухо ответил я, уступая ему место на чехле от стереотрубы. Сержант долго осматривал окрестности, затем остановил стекла прибора на одном месте и с минуту оставался неподвижным.
— Скажи ты на милость, — заговорил он, раздраженно хлопая по карманам в поисках курева. — Три дня стоит1 – В голосе его послышалась жалость.
Я вздохнул:
— Три дня… — И дал ему прикурить.
Мы замолчали, глубоко затягиваясь крепкой махоркой. Сержант был пожилой из крестьян, я – молодой из рабочих. А думали мы об одном и том же, и думали, наверное, одинаково.
Впереди нас, на нейтральной полосе, вот уже третий день стояла раненая лошадь. Стояла неподвижно, низко опустив голову. С дряблых, полуоткрытых губ ее тянулась кровавая слюна. Когда я смотрел на нее в стереотрубу, лошадь почти вплотную подвигалась ко мне, и в большом, слезящемся глазу можно было заметить тупую боль и тоску. Я проворно вращал колесики прибора, стараясь глядеть дальше, но сам это не замечая, снова отыскивал лошадь. Мне хотелось, чтобы скорее закончились ее муки, и каждый раз ожидал увидеть лошадь упавшей, мертвой. Но она всё стояла, одинокая, худая, на порыжевшем, изрытом снарядами поле. Земля поддерживала ее. Та земля, на которую она ступила когда-то белолобым жеребёнком, приветствуя мир радостным, переливчатым голосишком. Когда ноги у жеребенка сделались резвыми, струйками потекла грива по гибкой шее, она принялась покусывать круп матери и гонять молодых кобылиц, не понимая, что с ним происходит. Пришли люди, свалили его. Он содрогнулся от острой боли, печально крикнул на весь лес, но никто его не услышал.
Боль утихла медленно и вместе с нею исчезла резвость. Он еще раз взвился на дыбы и протестующе закричал, когда завели его под оглобли. Но бунтовать в оглоблях, да еще с уздой во рту трудно, и он побежал, а потом уныло побрел по дороге, бесконечной лентой убегающей вдаль, к горизонту.
С тех пор ему всегда казалось, что там, у края земли конец дороги, и он довезет тяжелую поклажу и увидит что-то неведомое. Но менялась поклажа: лес, дрова, сено, кирпичи, мешки, водовозная бочка, а дороге не было и не было конца. И дорога вела его и вела и привела туда, где грохот, сутолока, крики. Лошадь сперва прядала ушами, пятилась и хрипела, рвала со страха постромки. Её били чем попало по костлявой спине, по ребрам, по морде. Её то гоняли во весь дух люди с вытаращенными глазами, то заставляли шагать тихонько, с ленцой, убаюкивали длинной, как дорога, песней.
Она не успевала привыкнуть к тем, кто управлял ею. Люди на повозке менялись часто. Люди на обочинах валялись вперемежку с конями. На замечала она только коней.
Однажды ее впрягли в повозку вместе с двумя молодыми горячими лошадьми. Их гнали прямо по подсолнечнику, кукурузе, и били без разбора прикладами винтовок. Было дымно и жарко, хотелось пить. Молодые лошади бежали по бокам, хватали сочные побеги кукурузы, жевали их с горячей пеной. А она не могла. Она задыхалась, слабела, ноги ее заплетались, делались непослушными. Вдруг шарахнул взрыв. Пристяжная, что бежала справа, упала и взбила пыль ногами, а другая, рыжая, раскачивалась и сипло дышала. Из ее ноздрей ключами била кровь.
Она тоже упала и потянула за собой старую лошадь. Та пошире расставила ноги, уперлась. Её душила упряжь, но она не хотела падать.
С повозки поднялся человек, вынул нож и обрезал постромки. Дышать сделалось легче. Человек погладил живую лошадь дрожащей рукой и попросил:
— Ну, милая, только на тебя надежда, выручай.
И старый коняга, видно, понял человека, напрягся и потянул повозку дальше от грохота, сумятицы, воплей. Там, где попадались борозды, или воронки, лошадь ступала осторожно, однако, повозка всё равно накренивалась и с неё слышались стоны, ругань. Наконец, лошадь подсмотрела лесную дорогу и свернула на неё.
Возле палаток с красными крестами она остановилась, расслабила мускулы, задумчиво опустила голову. Раненых унесли. Лошадь, не дожидая, когда её хлестнут и прогонят, сама отошла в сторону и принялась выстригать из помятых кустов переросший пырей крупными, наполовину съеденными зубами.
Вскоре и её зацепило. В битый многими людьми и оттого уже бесчувственный бок тупо шибануло. Она подумала, что её пнули, рванулась было, но повозки сдвинуть не смогла. Ещё раз рванулась, словно бы не поверив тому, что произошло, и почувствовала слабость в ногах и горячую боль внутри.
Это случилось на высохшем болотце. Здесь ещё с весны остались отпечатки следов птиц, и рос небольшой пучок лабазника. Сгоряча она потянулась к нему и объела бы по давней привычке, с толком используя остановку. .. Но сейчас белый пушистый цвет лабазника лишь обнюхала.
Пошумел, пошумел на неё с повозки старый, прихрамывающий на одну ногу, солдат, потом с кряхтеньем обошёл вокруг, покачал головой и, сказав: «Когда только и конец этому будет!», снял с неё хомут. Вечером он привёл другого коня, надел на него хомут, потник, который был вытерт до блеска её шеей и попрощавшись взглядом с лошадью, молвил:
— Отвоевалась, трудяга.
Так она осталась на поле одна, всеми брошенная, никому не нужная. Запах лабазника щекотал в ноздрях. Ей виделся прохладный лес и за мним волнующее море овса, которого она не едала вот уже года два досыта. До самой ночи она что-то ждала, а затем, судорожно дёргаясь, как спутанная, двинулась неизвестно куда. Ей хотелось к людям, но кругом было темно, и глаза тоже застилала темень. Природное чутьё изменило ей. Она, выбившись из сил, остановилась и не заржала, а лишь робко прошелестела губами. Никто не отозвался, никто не пришел на её застенчивый призыв.
И так вот немым укором стояла она между двумя враждующими мирами, в самом центре войны. И какое дело ей было до этих миров! Она была рождена работать, и она работала всю жизнь на этих людей. И они выстрелили в неё из того оружия, которое придумали для себя. Она хотела одного – жить и потому не падала. Она знала, что если упадёт, то больше уж никогда не поднимется и не увидит той дороги, что звала её вперёд и обещала чего-то…
…Сержант ещё раз глянул в стереотрубу. Нахмурился и пробормотал:
— Даже фашисты и те не палят в неё, он опустил голову и после долгой паузы признался:
— Хотел сам… рука не поднимается…
Сержант поднял голову и просительно взглянул на меня. Он мог бы приказать, но не приказывал. Я отвёл глаза в сторону. Тогда сержант быстро шагнул из ячейки, бросив на ходу.:
— Скоро смену пришлю.
Я обрадовался, ещё никогда не тянулось так медленно время на дежурстве, как в эти три дня. Сменщик, Яшка Галоухин, побывавший в тылу у врага с десантом и потому считающий, что ему теперь всё нипочем, ввалился в ячейку с шумом и говором:
— Артпривет наблюдателю! Дежурим? Много точек засёк?
— Одну.
— Маловато. – Он, не садясь, припал к окулярам стереотрубы, и, поводив ею, хохотнул:
— Вот это я понимаю – домашнее животное! Стоит на виду у человеческой коросты – фашизма и доказывает, что он есть советский конь и если умрёт, так стоя!..
— Ну ты, звонарь! – замахнулся я на Яшку.
— Ты чего? – попятился он.
— Ничего! — гаркнул я и, схватив карабин, вымахнул из окопчика.
Ползти было трудно – укрытий никаких. Я плотно прижимался к земле, а потом понял, что это бесполезно, поднялся и пошел.
— Срежут, псих ненормальный! – орал мне Яшка вслед. Но я дошёл до коня, приложился и выстрелил ему в голову. Старый работяга качнулся, узловатые, надсаженные колени его подломились, он рухнул на землю. Судорога промчалась от шеи до задних ног его, и он вытянулся, Протяжно, с облегчением вздохнув в последний раз. Я со злом выбросил дымящуюся гильзу и пошёл обратно.
Лошадь та мне снится и по сей день…

Старая лошадь
— Стоит? — спросил сержант Данила у разведчика Ванягина, дежурившего возле стереотрубы.
— Стоит, — глухо ответил Ванягин, уступив место на чехле от стереотрубы сержанту Даниле — командиру отделения разведки.
Отделенный долго и сосредоточенно обозревал окрестности, затем остановил зоркие глаза прибора на одном месте.
— Скажи ты на милость, — заговорил он, раздраженно хлопая себя по карманам в поисках курева, — Три дня стоит! — И в голосе его просквозила жалость.
Ванягин вздохнул:
— Три дня… — и дал ему прикурить.
Они курили, яростно затягиваясь горькой махоркой, и молчали. Но и так понимали друг друга, оттого что думали об одном и том же, хотя были разными людьми. Сержант Данила был в годах. Среди молодых, скорых на слово и ловких разведчиков он выглядел чужевато, смущался тем, что находится не у места, и два раза в году просился на обыкновенную службу, к обыкновенным пехотинцам.
Ванягин был из рабочих, специалист по шлифовке паровозных бронзовых вкладышей. На сержанта Данилу он походил только волосом — оба рыжие, да еще тем, что во время работы не любил разговаривать. К этому приучило его тонкое шлифовальное дело.
Он-то первый и назвал сержанта дядей Данилой, за что получил взыскание от щеголеватого комбата и полдня спал без обмоток в глубокой щели, называемой «губой», куда принесли для него соломы дисциплинированные солдаты.
То ли понравилось Ванягину на «губе», то ли был он упорным человеком, но наказание не пошло ему впрок, и вопрос чинопочитания он решил по-своему — стал звать отделенного сержантом Данилой. Звание это разошлось по всему полку.
И тут уж ни комбат, ни кто другой не в силах были что-либо сделать.
Цигарка накалила ноготь, затрещала в пальцах, и сержант Данила кинул ее под каблук.
— Как ты думаешь? — хрипловато спросил он и прокашлялся. — Как, говорю, думаешь, долго она еще? — и кивнул головой в сторону нейтральной полосы.
— Кто ее знает, — пожал плечами Ванягин. — Они ведь живучие попадаются.
Сержант Данила на секунду прислонился к стереотрубе и опять полез за кисетом:
— Все стоит, все стоит…
На нейтральной полосе, среди бородавчатых, засохших кочек вот уже третий день стояла раненая лошадь. Стояла неподвижно, опустив голову. С дряблых, полураскрытых губ ее тянулась кровавая слюна. Когда на нее смотрели в стереотрубу, она почти вплотную подвигалась к окулярам, и в большом глазу ее можно было заметить тупую боль, тоску и недоумение.
Земля поддерживала ее. Та земля, на которую она ступила когда-то белолобым жеребенком, приветствуя мир радостным, переливчатым голосишком. Когда ноги у жеребенка сделались резвыми и струйка гривы потекла по гибкой шее, он принялся покусывать круп матери и гонять молодых кобылиц. Когда он вырос, его стали запрягать. Он взвился на дыбы и протестующе закричал, когда завели его первый раз в оглобли. Но в оглоблях, да еще с удилами во рту, трудно протестовать, и он побежал, а потом побрел по дороге, убегающей вдаль, к горизонту.
С тех пор ему всегда казалось, что там, у края земли, конец дороги и он довезет тяжелую поклажу и увидит что-то неведомое.
Выпадали дни, даже целые недели, когда отпускали спутанную конягу на волю, и она култыхала одна себе по прохладной траве, в прохладной темноте и слушала голос дергача.
Конюх водил ее на водопой к речке, и она долго, смачно тянула воду губами, а человек длинно посвистывал ей, может быть думая, что под мерный и тихий свист коню слаще пьется.
Менялись поклажи: лес, дрова, сено, кирпичи, мешки, водовозная бочка, а дороге не было конца. Она вела конягу и вела и вот привела туда, где грохот, сутолока, крики.
Сперва коняга прядала ушами, пятилась и храпела, рвала со страха постромки. Её то гоняли во весь дух люди с вытаращенными глазами, то заставляли шагать тихонько, с ленцой, убаюкивая длинной, как дорога, песней.
Однажды ее впрягли в повозку вместе с двумя молодыми, горячими лошадьми. Их гнали прямо по подсолнечнику, кукурузе.
Было дымно и жарко.
Молодые лошади скакали по бокам, на ходу хватали сочные побеги кукурузы и глотали их, захлебываясь слюной. А коняга не могла. Ноги ее слабели, заплетались, делались непослушными.
Та лошадь, что бежала справа, вдруг упала и взбила пыль ногами, а другая раскачивалась и сипло дышала, выворачивая мягкие ноздри, из которых ключами била кровь. И эта лошадь упала и потянула за собой старую конягу. Она шире расставила ноги, уперлась. Ее душила упряжь, но она не хотела падать.
С повозки поднялся человек, вынул нож, обрезал постромки. Дышать сделалось легче. Человек погладил ребра коняги, ободьями выступившие на боках:
— Ну, милый, только на тебя надежда, выручай!
И старая коняга, видно, поняла человека, напряглась и потянула повозку дальше от грохота, сумятицы, воплей. Там, где попадались борозды или воронки, лошадь ступала осторожно, однако повозка все равно накренивалась, и с нее неслись стоны и ругань. Наконец лошадь подсмотрела лесную дорогу и свернула на нее.
Возле палаток с красными крестами коняга остановилась, расслабила мускулы, задумчиво опустила голову.
Раненых унесли. Не ожидая, когда ее хлестнут и погонят, коняга отошла в сторону и принялась выстригать из мятых кустов переросший пырей крупными, наполовину съеденными зубами.
Вскоре и ее зацепило. В бок тупо шибануло, она рванулась было, но повозки сдвинуть не смогла. Еще раз рванулась, словно бы не поверив тому, что произошло, и почувствовала слабость в ногах и горячую боль внутри.
Это случилось на высохшем болотце. Здесь еще с весны остались отпечатки следов птиц и рос небольшой пучок лабазника. Сгоряча она объела его, по давней привычке с толком используя остановку, но белый душистый цвет лабазника лишь обнюхала.
Пошумел, пошумел на нее с повозки прихрамывающий на одну ногу солдат, потом с кряхтеньем обошел вокруг, покачал головой. Сказав: «Когда это война только и кончится?» — он снял с лошади хомут.
Вечером он привел другого коня, надел на него хомут. Потник на хомуте был вытерт до блеска шеей старой коняги.
— Отвоевался, трудяга! — тихо молвил повозочный и ушел, потрогав на прощанье конягу за спутанную гриву.
Так она и осталась на поле одна, всеми брошенная, никому не нужная. Запах лабазника щекотал в ноздрях. Ей виделся прохладный лес и за ним волнующееся море овса, которого она давно уже не едала досыта.
До самой ночи она еще чего-то ждала, а затем, судорожно дергаясь, как спутанная, двинулась неизвестно куда. Ей хотелось к людям, но кругом было темно, и глаза тоже застилала темень. Природное чутье изменило ей, и она, выбившись из сил, остановилась. Она не заржала, а только робко зашелестела губами.
Никто не отозвался, никто не пришел на ее робкий призыв. Так и стояла она между двумя враждебными мирами, в самом центре войны. Она будто знала, что если упадет, то больше никогда не поднимется и не увидит той дороги, что звала ее вперед и обещала что-то…
Сержант Данила еще раз кинул цигарку под каблук и еще раз глянул в стереотрубу, должно быть на что-то надеясь.
— Хотел сам — рука не поднимается… — Он опустил голову и после продолжительного молчания произнес: — Крестьяне бить лошадей могут вожжами там либо кнутом, но убивать — нет, потому он, конь, — работник.
Так длинно и с неловкими намеками он еще никогда не разговаривал.
— Конечно, конечно, — будто ничего не понимая, заторопился Ванягин. — Без коня у вас никуда. — И замолк, потому что сержант Данила поднял голову и пристально взглянул на него. Он мог бы приказать Ванягину, но не приказывал.
Ванягин не выдержал взгляда сержанта и опустил глаза. Лицо его сразу сделалось виноватым, будто у напроказившего парнишки.
— Скоро смену пришлю.
Ванягин слышал, как осыпалась земля с бруствера. Траншеи для сержанта Данилы всегда были узкими. «Слава богу», — облегченно подумал Ванягин, когда шаги сержанта затихли и стало ясно, что отделенный не вернется.
Еще никогда не тянулось так мучительно время на дежурстве, как в эти три дня.
Сменщик, Яшка Голоухин, побывавший в тылу врага с десантом и считающий, что ему теперь все нипочем, ввалился в ячейку с шумом:
— Артпривет наблюдателю! Дежурим? Много точек засек?
— Одну.
— Маловато.
Он, не садясь, припал к окуляру стереотрубы, повертел колесико и засмеялся:
— Вот это я понимаю — советский конь! Стоит на виду у фашистов и показывает непоколебимость. Если, мол, умру, так стоя!..
— Ну ты, звонарь! — неожиданно замахнулся на него Ванягин.
— Ты чего? — попятился Яшка от Ванягина, разом пришедшего в свирепость.
— Ничего! — гаркнул Ванягин и, схватив карабин, вымахнул из окопчика.
Ползти было трудно — укрытий никаких.
Ванягин плотно прижимался к земле, а потом понял, что это бесполезно, поднялся и пошел неторопливо и даже как-то задумчиво, словно бы на прогулке.
— Срежут! Псих ненормальный! — заорал Яшка, когда наконец пришел в себя.
Но Ванягин дошел до коняги, приложился и выстрелил ей в голову.
Старая коняга качнулась, узловатые, надсаженные колени ее подломились, и она рухнула на землю. Судорога пробежала от шеи до задних ног ее, и она вытянулась, протяжно, с облегчением вздохнув в последний раз.
Ванягин со злостью выбросил дымящуюся гильзу и пошел обратно.
Лошадь та снится Ванягину и по сей день…
1958
Виктор Астафьев, Собрание сочинений в 15 томах, Красноярск, Офсет, 1997, том 3, стр143-148

Комментарий В.А.Гапеенко
Рассказ «Старая лошадь», написанный в 1958 году, впервые был опубликован московским издательством «Советская Россия» только в 1965 в авторском сборнике Виктора Астафьева «Поросли окопы травой». Он же вошел и в третий том 15-томного собрания сочинений, где разместился сразу после любимого «детища» писателя повести «Пастух и пастушка».
Почему у патриотического, антивоенного , по сути, рассказа оказалась столь «трудная» судьба?
По мнению автора, изложенному в комментариях к тому, в момент написания рассказ считался издателями «настолько крамольным, что не мог появиться в целомудренной нашей периодике». Побывав во всех столичных журналах, он попал, в конце концов, в «Литературную газету». Но и там руководитель литературного отдела, «сказавший, что он костьми ляжет, но рассказ пробьет», не смог добиться его публикации на страницах боевой по тем временам газеты.
Как пишет далее Виктор Петрович: «Старая лошадь» однажды «проскочила» в моем сборнике рассказов и с тех пор благополучно печатается у нас и за рубежом».
И хотя ни сам автор, ни его биографы до сих пор не уточняли судьбу рассказа, нам, игарчанам, особенно приятно, что еще в 1958 году, несмотря на существование цензуры не только в союзных изданиях, но и самых провинциальных, редакцией Игарской газеты «Коммунист Заполярья» сразу же после получения от автор его текста рассказ «Домашнее животное» был опубликован.
Бывая у Астафьевых уже после смерти Виктора Петровича, я видела архивные папки рукописей его произведений, собранные Марией Семеновной. Все, написанное от руки Виктором Петровичем, она печатала на механической пишущей машинке. Астафьев читал и снова правил, она вновь набирала текст. Перепечаток отдельных глав и в целом произведений существовало десятки. Только бывшая фронтовичка, очень стойкая по характеру жена писателя, смогла выдерживать подобную рихтовку текстов. Как-то семье подарили компьютер, но Мария Семеновна не смогла его освоить, вернувшись к прежнему способу перепечатки правленых писателем рукописей.
Очень жаль, что архивы рукописей писателя хранятся на Урале, а не у нас в крае.
Желтеют, старятся, сохнут и крошатся газетные страницы. Полвека и для них срок немалый. И все-таки современное поколение еще может увидеть процесс работы писателя над текстом, и оценить вариант превращения «Домашнего животного» в шедевр, известный русскому и зарубежному читателю под названием «Старая лошадь».
Первые рассказы о войне Виктора Астафьева, как видим, не отличались особым совершенством, но мы наблюдаем при сравнении двух вариантов, не просто появление нового произведения, а рождение самого писателя. Как и первое свое творение «Гражданский человек» («Сибиряк»), так и «Домашнее животное» («Старая лошадь») писатель заново отреставрировал, отшлифовал, дописал, рассказав о том, как юноша-солдат, получивший первые уроки войны, не ожесточился, хотя и успел отхлебнуть от жестокостей войны полную меру отравы.
Литературные критики, исследовавшие творчество Виктора Астафьева, задавались вопросом: почему в финале рассказа, рискуя собственной жизнью, солдат дошел до коня? «Дело не в том, как изображен здесь солдат или израненный, измученный коняга, а в том, как прекратил мучения лошади солдат», — писал в очерке творчества «Виктор Астафьев», Москва, Советский писатель, стр.18, критик Николай Яновский.
Не легче ли было герою выстрелить в лошадь издали? Отвечая на этот вопрос, Николай Яновский приводит мнение «проницательного» своего собрата по перу Александра Макарова:
«Да только затем, чтобы неся лошади избавительную смерть, согреть ее последнее мгновение жалостью, участием, человеческим теплом. Ей хотелось к людям, и человек, рискуя собой, принес ей последний дар дружбы». А.Макаров. Во глубине России, Москва, 1973, стр.296.
И в этом эмоциональная сила рассказа, не оставляющая равнодушным современного читателя.
Повторюсь, но скажу, что игарчане могут гордиться тем, что на страницах городской газеты его произведения стали печататься уже с 1958 года. Читатели краевой газеты «Красноярский рабочий» вживую смогли прочесть отрывки из произведений Астафьева лишь в августе 1975 года.
Читайте Астафьева!
Фото: Михаила Литвякова М.С.Астафьева и В.А.Гапеенко, Красноярск, 2002 год.